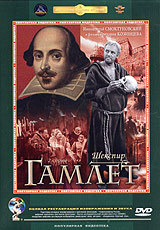"Гамлет"
| Название фильма: | Гамлет |
|
|
| Страна-производитель: | СССР | ||
| Английский: | Гамлет | ||
| Жанр: | драма / экранизация | ||
| Режиссер: | Григорий Козинцев | ||
| В ролях: | Анастасия Вертинская , Игорь Дмитриев , Вадим Медведев , Михаил Названов , Эльза Радзиня , Иннокентий Смоктуновский , Юрий Толубеев , Владимир Эренберг | ||
| Год выпуска: | 1964 | ||
| Наша оценка: | |
||
| Купить | |||
|
|
|
|||||||||||
Сюжет и комментарий
Фильм этот — попытка современного прочтения шекспировской трагедии. За всю историю Эльсинора, мрачного замка, хранящего тайну не одного преступления, Гамлет, быть может, первый человек, который без прежней легкости и уверенности в своей правоте берется за оружие, чтобы отомстить. Он — первый мыслитель в ряду воинов. Мысль его выше действия, яснее и точнее поступков. Постановщика фильма привлекают действия Гамлета. Композитор Д. Шостакович остается сторонником мысли Гамлета. Героизм размышления, героизм понимания — вот что воплощает музыка композитора. Музыкальная тема гамлетовского сомнения в фильме становится важнейшей. Она звучит неоднократно: озвучивает монолог «Быть или не быть», возникает в эпизоде с войсками Фортинбраса и в финальном поединке. Свое прочтение дает режиссер и образу Офелии. Она предстает на экране марионеткой, красивой куклой. Заученны ее движения, словно бы она действует под гипнозом: рука направо, шаг вперед, поворот. Шостакович присоединяется к такой трактовке. Ее танец и в музыке — танец заводной куклы, танец балерины с музыкальной шкатулки. Казалось бы, в экспозиции заключен приговор. Но композитор убежден: чувство Гамлета к Офелии не было ошибкой. Девушка подавлена страшным миром интриг и злодейств, пытается быть послушной отцу, выполнять чужие приказы. Сама гибель Офелии для композитора — ее спасение и приговор обществу, запутавшему ее в своих интригах. И над водой, этой своеобразной «гробницей Офелии», звучит мелодия огромной впечатляющей силы и любви. Композитор не скрывает своего авторского отношения к представленному на экране. Он судит Клавдия и Гертруду, симпатизирует актерам, понимает драму Офелии. Он находит в Гамлете И. Смоктуновского своего героя, заряжает интонацией актера свою музыку. Медленно движется процессия, провожающая Гамлета в последний путь. Звучит траурный марш. Убит герой, чужой среди современников и близкий всем грядущим поколениям. Это грандиозный марш-плач, открывающий дорогу в бессмертие. Полемика режиссера и композитора окончена. В этой точке они солидарны. И не случайно Г. Козинцев позволил композитору иметь свою точку зрения, свою позицию. Гамлет — наш современник — рождался на пересечении разных пониманий классического образа и потому становился действительно современным: героем действия и героем мысли.
Григорий Михайлович Козинцев.
Наш современник Вильям Шекспир
"ГАМЛЕТ" И ГАМЛЕТИЗМ
Даже когда мы возвращаемся к произведениям прошлого (причем никогда
разные эпохи не выбирают одно и то же в великих Складах прошлого: вчера это
были Бетховен и Вагнер, сегодня - Бах и Моцарт), - то это не прошлое
воскресает в нас; это мы сами отбрасываем в прошлое свою тень - наши
желания, наши вопросы, наш порядок и наше смятение. Ромен Роллан. "Гете и
Бетховен".
Достоевский писал, что даже самые робкие женихи, испугавшись свадьбы,
вряд ли выпрыгивают из окошка - в обыденной жизни так не случается, - но
стоило только Гоголю сочинить "Женитьбу", как люди стали узнавать друг в
друге Подколесина. Робость и неуверенность, боязнь каких-либо перемен - эти
нередко встречающиеся человеческие свойства получили свое наименование. Все
то, что, по словам Достоевского, в действительности будто разбавляется водой
и существует "как бы несколько в разжиженном состоянии", вдруг уплотнилось,
сжалось до наглядности, облеклось в наиболее выразительную форму - стало
нарицательным.
Григорий Михайлович Козинцев.
Искусству удалось отразить самую суть жизненного явления.
Образ стал типом.
Явление, свойственное определенной эпохе, оказалось живучим: надворный
советник Подколесин пережил свой век и стал представителем множества новых
поколений лежебок и мямлей, характеры которых были определены уже совсем
иной действительностью.
Добролюбов радовался появлению слова-прозвища, способного объединить и
объяснить множество явлений в русской дореформенной жизни.
"Слово это - обломовщина.
Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о
необходимости развития личности, - я уже с первых слов его знаю, что это
Обломов.
Если я встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и
обременительность делопроизводства, он - Обломов...
Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и
радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, - я
думаю, что это все пишут из Обломовки".
Статья Добролюбова "Что такое обломовщина" была напечатана в
"Современнике" в конце пятидесятых годов, однако список, начатый
Добролюбовым, не был исчерпан его временем. "Братцы обломовской семьи" не
собирались вымирать и продолжали свое существование в следующие эпохи.
"...Обломовы остались, - писал Ленин, - так как Обломов был не только
помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не
только интеллигент, а и рабочий и коммунист... старый Обломов остался, и
надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк
вышел". (В.И. Ленин. Сочинения, т. 45, стр. 13.)
В мире появился новый обитатель: образ-тип, "нарицательное имя многих
предметов, выражаемое, однако же, собственным именем" (Белинский).
Этот обитатель оказался гораздо долговечнее простого смертного: в нем
были заключены не только качества человека, живущего в определенном месте, в
определенное время, но и те свойства самой человеческой природы, которые
обладают особой устойчивостью и живучестью. Такие свойства переживают эпохи
и переходят границы стран; меняя свои формы, они сохраняют родовую основу.
С образами, о которых идет речь, каждый знаком с юности.
Это Дон Кихот, Тартюф, Обломов, Фауст, Хлестаков и другие подобные им
герои-прозвища, сопровождающие жизнь многих поколений.
И это - Гамлет.
Каждый из характеров обладает не только именем собственным, но также и
нарицательным. Взаимоотношение между такими именами не просто. В истории
культуры нередко имя нарицательное отделялось от собственного и приобретало
свое особое движение и развитие.
Новые эпохи относили нарицательное имя к новым явлениям
действительности. Оно бралось на вооружение различными общественными
группами, иногда для противоположных целей.
Нередко это напоминало соотношение биографии и легенды. Воин или
государственный деятель некогда прожил свой век; были в его жизни и личные
отношения, и события разного значения. Он обладал особым складом характера.
Потом человек умер; умерли его близкие - не стало людей, хорошо его знавших.
Биография начала забываться, появилась легенда. При возникновении она
связывалась с действительным событием или жизненной чертой, казавшимися
современникам особенно существенными. Потом именно эта сторона
преувеличивалась - остальное забывалось. Следующие поколения узнавали лишь
легенду и в свою очередь дополняли ее новыми, выдуманными подробностями;
вводили в нее свои идеалы и хотели увидеть в ней осуществление собственных
стремлений.
Погребальный холм осел и порос травой, а легенда - ничем, кроме имени,
не связанная с биографией умершего человека, - выражала мысли и чувства
новых поколений.
Нечто подобное иногда случалось и с образами художественных
произведений.
Герой пьесы, сочиненной три столетия назад, - виттенбергский студент и
наследный принц Дании - стал известен не только как действующее лицо
драматического сочинения, но и как имя нарицательное. Распространение этого
имени приобрело масштаб неповторимый в истории культуры. Оно стало
обобщением, выражавшим, по мнению множества выдающихся людей, свойства не
только человеческих характеров, но иногда целых наций в какие-то моменты
своего развития.
От фигуры в траурном костюме отделилось необъятное понятие; оно
участвовало в грандиозных идеологических боях.
Но чем ожесточеннее становились бои, тем чаще речь шла уже только о
понятии, а сам образ датского принца отходил вдаль; предметом спора
становилось лишь понятие "гамлетизм", автором которого был не только
Шекспир, но и еще великое множество других людей. Среди соавторов Шекспира
были и великие мыслители, и невежды, и люди, стремившиеся к победе нового, и
злобные консерваторы.
История возникновения и развития понятия гамлетизм лишь частично
связана с исследованием шекспировской пьесы и даже в отдельности взятого
образа героя. Мало того, само это понятие менялось и нередко связывалось с
явлениями, противоположными друг другу.
В современном представлении гамлетизм обозначает сомнения, колебания,
раздвоение личности, преобладание рефлексии над волей к действию. Так
разъясняет это понятие энциклопедия, и таким мы привыкли его воспринимать,
не задумываясь глубоко над его подлинным значением. Однако и все понятие, и
каждое из явлений, объединенных им, в разные времена вызывались различными
общественными причинами и имели свой характер.
В шекспировское время многое объединялось понятием "меланхолия"; о ней
писали философские трактаты, модники становились в позу разочарования в
жизни. На эти темы часто шутили, и сам Гамлет, перечисляя обычные
театральные амплуа, упоминает и "меланхолика". Однако число самоубийств
увеличивалось, и раздел учения стоиков, посвященный мудрости самовольного
ухода из жизни, привлекал особое внимание.
Множество шекспировских героев-от Жака ("Как вам это понравится") до
Антонио ("Венецианский купец")-хворали "елизаветинской болезнью", как
называли это состояние духа английские исследователи.
Разлад идеалов Возрождения и действительности эпохи первоначального
накопления был достаточно очевиден. В этом заключалась причина болезни для
всех, кто имел несчастье осознать глубь разлада.
Обращал ли внимание зритель начала семнадцатого века именно на эти
свойства душевной жизни датского принца? Свидетельства современников слишком
скупы, и любой ответ был бы произволен. У "Гамлета" были различные зрители,
и, вероятно, по-разному смотрели пьесу лондонские подмастерья, завсегдатаи
литературных таверн и придворные меценаты.
Но можно предполагать, что эти черты характера датского принца были не
единственными, привлекавшими к нему внимание, да и выражались они
по-особому. Разлад Гамлета с жизнью воспринимался, по-видимому, сквозь жар
риторики, и бой на рапирах занимал немалое место в успехе представления. Ни
тема раздвоения личности, ни рефлексия, как мы их теперь понимаем, не могли
бы повлиять на успех, а "Гамлет" "нравился всем", по словам современника, и
был "понятен стихии простонародья" (Антони Сколокер).
Пьеса была настолько популярна, что в первые годы ее существования она
исполнялась матросами на палубе корабля, стоявшего у берегов Африки;
капитан, занесший этот случай в судовой журнал, упомянул: спектакль должен
отвлечь людей от безделья и распущенности. Трудно вообразить себе это
представление, но можно предполагать, что буйный экипаж "Дракона" вряд ли
заинтересовали бы переживания героя сомнений и раздумья.
Почти ничего не известно об игре первого исполнителя роли - Ричарда
Бербеджа (1567-1619). В элегии, посвященной его памяти, можно прочитать, что
он играл "молодого Гамлета" и был похож на человека, не то "обезумевшего от
любви", не то "печально влюбленного". Эстафета перешла к Тейлору, потом к
Беттертону (1635- 1710). Ричард Стиль, видевший Беттертона, отметил, что тот
играл "многообещающего, живого и предприимчивого молодого человека".
Конечно, это общие определения, но каждое из них менее всего может быть
отнесено ко всему тому, что называется теперь гамлетизмом.
Игра знаменитого английского трагика Давида Гаррика (1717-1779) описана
многими свидетелями. Филдинг в "Томе Джонсе" потешался над простодушным
зрителем, считавшим, что актер, играющий короля, играл лучше Гаррика:
говорил отчетливее и громче, и "сразу видно, что актер". Гаррик - Гамлет
пугался духа так же, как испугался бы всякий, и гневался на королеву
совершенно естественно, и в этом не было ничего удивительного: "Каждый
порядочный человек, имея дело с такой матерью, поступил бы точно так же".
Вряд ли филдинговский обыватель мог бы воспринять Гамлета как человека
совершенно обычного и даже разочаровывающего зрителей естественностью своего
поведения, если бы мистер Партридж увидел на сцене трагедию раздвоения
личности.
Зрителей середины восемнадцатого века интересовала не пьеса, а лишь
исполнитель главной роли. Актер играл собственный вариант: он переделывал
пьесу - сокращал, дописывал текст.
Джордж Стоун определил гарриковскую переработку как чрезвычайно
динамическую и "эффектную".
Динамичность и эффектность достигались сокращением размышлений героя.
Большинство исполнителей купюровали монолог, произносимый Гамлетом
после прохода войска Фортинбраса. Томас Шеридан впервые восстановил это
место; однако актера интересовали вовсе не мысли о воле и безволии. В
монологе заключалась возможность злободневных ассоциаций: шла война в
Канаде; слова о том, что не жалко во имя славы пролить кровь даже за
крохотный клочок земли, вызвали патриотическую овацию.
Можно ли представить себе трактовку, более чуждую гамлетизму?
В конце восемнадцатого века Н. М. Карамзин видел один из лондонских
спектаклей. "В первый раз я видел шекспировского "Гамлета"... - писал он. -
Угадайте, какая сцена живее всех действовала на публику? Та, где копают
могилу для Офелии..."
Отзыв не был вызван плохим исполнением: Карамзин присутствовал на
летнем спектакле в Геймаркетском театре, где в это время играли лучшие
актеры Дрюри-Лейна и Ковент-Гардена.
Ни в мемуарах, ни в переписке людей того времени не найти следов
интереса к сложности переживаний героя. Даже такие места, как "быть или не
быть", воспринимались по-особому. Современники переложили монолог на музыку
и, превратив его в романс, исполняли под гитару.
Вольтер, переделывая пьесу, заменил в этом монологе "совесть"
"религией", тогда вместо сомнений в смысле жизни появилась ясная мысль:
трусами делает нас религия, "румянец решимости" вянет из-за христианского
вероучения.
Во второй половине века искажающие переводы появились на различных
языках. Стихи превращали в прозу; принц оставался в живых, Лаэрта в финале
короновали. Переделки не только не выявляли трагедию рефлексии, но,
напротив, превращали пьесу в историю мстителя.
Французских академиков и критиков волновало нарушение классических
единств, смесь трагического с комическим. Шекспира бранили за низкий слог,
отсутствие благопристойности. Обвинения в варварстве сменялись восхвалением
естественности.
Возникало множество новых вопросов, но образ Гамлета - вне интересующих
тем. Характер героя не вызывал особых толкований, а поступки его - в
пределах принимаемого или отрицаемого искусства Шекспира - не казались
нуждающимися в объяснениях.
В восемнадцатом веке "Гамлета" ставили немецкие и французские театры.
Успех был настолько велик, что в честь гамбургской премьеры 1776 года
вычеканили медаль с портретом Брокмана - Гамлета.
На сцене появился сентиментально-элегический принц.
Ни слова, относящегося к гамлетизму, в его современном понимании, еще
не было произнесено.
Принято считать, что новую жизнь "Гамлету" дал Гете. Впрочем, есть
исследователи, утверждающие: решающее слово сказал в своих лекциях Август
Шлегель; другие обращаются к письмам Фридриха Шлегеля и там находят это
новое, впервые произнесенное слово.
Слово было сказано, потому что пришло время его сказать.
Девятнадцатый' век открыл в пьесе не только заключенную в ней силу
искусства, но и глубину мышления. Отныне это произведение перешло в иной
раздел явлений культуры. Датский принц перестал быть одним из действующих
лиц шекспировских трагедий, а стал героем, обладающим особым значением,
образом, единственным в своем роде.
В чем же заключалась эта только теперь открытая особенность?
Немецкие мыслители обратили внимание не на события, изображенные в
пьесе, а на характер героя; центр действия как бы перенесся из Эльсинорского
замка в душу Гамлета. Здесь, в маленьком пространстве человеческой души,
разыгрывалась драма, обладавшая особым значением.
Произведение родилось вновь. Оно стало иным; все привлекавшее внимание
прежде теперь представлялось незначительным; другие стороны содержания вдруг
оказались не только интересными, но, что наиболее существенно, жизненно
важными.
Пьеса приобрела новый смысл, потому что новым, несхожим с прошлой
эпохой было восприятие зрителя.
Кончилась эпоха, когда медвежья травля находилась в том же разряде
развлечений, что и театр, когда по дороге на представление останавливались
на площади посмотреть публичную казнь, воспринимавшуюся как род театрального
зрелища. Исчезла буйная и пестрая толпа, окружавшая подмостки "Глобуса".
Люди другого склада, по-новому мыслящие и чувствующие. перечитали
"Гамлета". Иным было восприятие этих людей - иным стал в их представлении
образ героя.
Этот образ - такой, каким он показался новому времени, не смогли бы
изобразить не только матросы "Дракона", но, вероятно, и сам Ричард Бербедж
мало что понял бы в подобной роли.
Гете писал: "Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное
существо, лишенное силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем,
которого он не мог ни снести, ни сбросить".
Сентиментально-элегический Гамлет второй половины восемнадцатого века
получил новые и весьма существенные черты. Он зашатался под тяжестью
бремени, упавшего на его плечи. В новом понимании суть пьесы заключалась в
том, что Гамлет не мог ни отказаться от выполнения долга, ни его выполнить.
История датского принца превратилась в историю души прекрасной и
благородной, но по своей природе неспособной к действию.
Понимание пьесы можно было найти не только в рассказе о ней, но и в
способе ее сокращения.
Гете (словами Вильгельма Мейстера) говорил: трагедия состоит как бы из
двух частей; первая - "это великая внутренняя связь лиц и событий", вторая -
"внешние отношения лиц, благодаря которым они передвигаются с места на
место".
Внешние отношения он предлагал сократить, считая их маловажными. К
"внешнему" была отнесена борьба Гамлета с Гильденстерном и Розенкранцем,
ссылка в Англию, учение в университете. После гетевских изменений принц
перестал быть студентом, чуждым придворной жизни, приехавшим в Эльсинор
только на похороны отца и стремившимся обратно в Виттенберг; Горацио вместо
университетского товарища Гамлета стал сыном наместника Норвегии.
Сцены, рассказывающие о смелости и решительности героя, объявлялись
написанными лишь для "внешних отношений" и вымарывались. Из пьесы уходило
все противоречащее гетевскому пониманию.
Трудно было отнести к безволию кражу и подделку королевского приказа:
"высоконравственное существо, лишенное силы чувства", не могло бы,
торжествуя, отправить друзей детства на плаху; при абордаже - первым
прыгнуть на палубу пиратского корабля.
Конечно, эти сцены не основные в сюжете, но "основное" и
"несущественное" в шекспировском искусстве - понятия относительные, и обычно
их применение более характеризует критика, нежели само произведение.
Сокращения были необходимы не только для укорачивания спектакля, но и
для подчинения всего происходящего одной теме. Такой темой стало
противоречие между благородством мышления и неспособностью к подвигу.
Два века сценического существования "Гамлета" не знали такого понимания
этой трагедии. Почему же оно возникло именно теперь?
Кончался восемнадцатый век. Сгорела Бастилия: зарево осветило небо
Европы и угасло. Народы запомнили, как качались на пиках головы аристократов
и расцветали листья на Дереве свободы. Восставали народы, и уходили армии.
Величайшие надежды сменялись величайшими разочарованиями.
При свете нового дня стало видно, как возводятся стены мануфактур,
более прочные, чем стены Бастилии, и дети у фабричных машин узнавали
рабство, худшее, нежели феодальное. Дым заводских труб затягивал горизонт,
менялись уклады, не умолкал грохот ломки.
Ужасно было существование на задворках истории. В тесных клетках
немецких карликовых княжеств и нищих герцогств среди рухляди старинных
порядков еще сохранялся уже разрушенный историей строй. Все потеряло смысл в
этом отсталом общественном устройстве. все стало стыдным и мерзким.
Жалкое существование своей родины ощущал каждый мыслящий немец.
Положение казалось безвыходным: в народе не было сил, способных совершить
переворот. Оставались два выхода: подвиг или примирение. Примирение было
позорным, подвиг требовал не только силы мысли, но и героической воли.
Энгельс писал о Гете:
"В нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому
убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном
франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит
себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так Гете то
колоссально велик, то мелочен; то это непокорный, насмешливый, презирающий
мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер".(К. Маркс и Ф.
Энгельс. Сочинения, т. V. М., Госиздат, 1929, стр.142.)
В этих словах выражена драматичность положения мыслителя, понимающего
гнусность современного общественного устройства, но не способного восстать
против его основ. Так возникло, противоречие бесстрашия мысли и характера,
неспособного к борьбе.
Гете встретился с датским принцем как с близким другом, обладавшим
душой не только понятной, но родственной. Страдания театрального героя можно
было понять как реальные, стоило изображенную в трагедии жизнь сопоставить
не с Англией шестнадцатого века, а с Германией рубежа восемнадцатого и
девятнадцатого веков.
Гете увидел в "Гамлете" противоречие, жизненное не только для него
самого, но и для большинства его современников. Трагедия елизаветинского
гуманизма оказалась сходной с драмой гуманизма иного времени. Люди,
стремившиеся к идеалу свободного и деятельного человека, увидели
невозможность осуществления своих стремлений без мятежа, без разрушения
основ общественного строя.
Но возможность переворота еще не заключалась в самой действительности,
а характеры мыслителей не обладали силой воли, необходимой мятежникам.
Во что же превращалась жизнь этого благородного, но лишенного
героической воли человека?
"Он мечется, бросается туда и сюда, пугается, идет вперед и отступает,
вечно получает напоминания, вечно сам вспоминает и наконец почти утрачивает
сознание поставленной себе цели..."
Так описывал Гете датского принца. Вероятно, это было не только
литературное исследование, но и исповедь.
Противоречие силы мысли и слабости воли было ведущим для целых
поколений Германии девятнадцатого века. Наследный принц Дании стал родным
всем, кто обладал, как им казалось, теми же свойствами душевного склада.
Один из моментов пьесы: Гамлет, занесший меч над Клавдием, но не
нашедший в себе внутренней силы убить убийцу, стал символом. Множество людей
узнали в этом символе себя.
История Гамлета превратилась в историю мыслителя, которому не под силу
великое деяние.
Стоило появиться этому определению, как вдруг почти сразу же имя
собственное стало нарицательным. Одно из свойств образа оказалось способным
дать нарицательное имя всему, что ходило по Германии той эпохи "как бы в
несколько разжиженном виде".
Одна из черт постепенно превратилась в единственную. Так возникло
понятие гамлетизма.
Теперь разбору подлежал уже не только "Гамлет", сочиненный Шекспиром,
но и гамлетизм, выведенный немецкими мыслителями из отдельных черт
переработанного ими образа и, что наиболее существенно, из современной им
действительности.
Август Шлегель писал: "Драма в ее целом имеет в виду показать, что
размышление, желающее исчерпать все отношения и все возможные последствия
какого-либо дела, ослабляет способность к совершению дела".
Гамлетизм становится обозначением рефлексии, подмены дела рассуждением,
Бывали исторические периоды, когда в моду входили старинные слова и
наряды других эпох. Современные идеи тогда выражались формами иного времени.
Траур датского принца стал маскарадным костюмом, в который начали рядиться
все, кто не способен был признать победившую реакцию, но еще более не
способен бороться с ней. В гамлетизм заворачивались, как в плащ. Одежда
казалась красивой и к лицу.
Когда речь заходила о "Гамлете" - о нем вспоминали все чаще и чаще, -
возникало одно и то же сравнение. Сравнение с зеркалом. Не с тем
"театром-зеркалом", о котором говорилось в самой пьесе, но с обычным
зеркалом - стеклом, покрытым с внутренней стороны амальгамой, дающим
возможность каждому, кто заглянет в него, увидеть собственное лицо.
"Мы знаем этого Гамлета так же, как знаем свое собственное лицо,
которое мы так часто видим в зеркале..." - писал Гейне.
"Если бы немец создал Гамлета, я не удивился бы, - так закончил свою
статью Берне. - Немцу нужен для этого лишь красивый, разборчивый почерк. Он
скопировал бы себя, и Гамлет готов".
Эта мысль стала традиционной. Разбирая пьесу, Гервинус писал уже как бы
от лица множества людей: "Картина, которую мы, немцы, видим в этом зеркале
перед собою, в состоянии испугать нас своим сходством. И не я один это
высказал: тысячи людей заметили и ощутили это".
Сравнение иногда становилось гиперболой. "Германия - Гамлет", - написал
Фрейлиграт о Германии кануна 1848 года.
Сравнение не только пугало сходством, но и ужасало обвинением.
Благородство души постепенно отодвигалось на задний план, на авансцену
выходила неспособность к действию. Все это становилось обозначением не
только порока одного поколения, но и болезни нации.
Казалось бы, гамлетизм нашел родину, вступил в пору расцвета. Однако
это представление ошибочно.
Другой конец Европы, другое время и другая нация. Лондон 1852 года.
"Тесье говорил, что у меня натура Гамлета и что это очень (по-)
славянски, - пишет Герцен. - Действительно, это - замечательное колебанье,
неспособность действовать от силы мысли и мысли, увлекаемые желаньем
действия, прежде окончанья их".("Литературное наследство". Герцен и Огарев.
Т. 1. М., АН СССР, 1953, стр. 362. Прозвище оказалось устойчивым. "Мой милый
северный Гамлет", - называл Герцена его французский друг, прощаясь с ним на
парижском вокзале в 1867 году (А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. 2, стр.
511))
Гамлетизм относился в этом случае к славянской расе.
Можно добавить, что о Польше - Гамлете писал Мицкевич.
Теперь зеркало отражало совсем иные черты, хотя некоторые слова Герцена
напоминают слова немецких мыслителей (колебание, неспособность действовать),
но смысл всей фразы иной. Речь идет не о мысли, неспособной перейти в
действие, но о силе мысли, желании действовать, опережающем окончание мысли.
Колебание - не от безволия, а от силы мысли.
Чем же вызвано это "замечательное колебание"?
Имя Гамлета можно часто встретить у Герцена. Оно упоминается в
переписке, в различных статьях. Особенно глубоки связанные с ним
воспоминания в "Былом и думах": "Характер Гамлета, например, до такой
степени общечеловеческий, особенно в эпоху сомнений и раздумий, в эпоху
сознания каких-то черных дел, совершающихся возле них, каких-то измен
великому в пользу ничтожного и пошлого..."
Здесь и определение эпохи создания "Гамлета", и объяснение
непрекращающегося интереса к трагедии, усиливающегося в определенные
исторические периоды.
Речь шла уже не только о сомнениях, но и о причинах, вызывающих
сомнения. Эти причины - в действительности, где происходит измена великому в
пользу ничтожного. Понятно, что для Герцена ничтожное и пошлое - не какие-то
всеобщие категории человеческого духа, а общественные силы.
Рефлексия приобретала иной смысл. Для того, чтобы стала очевидна
неясность и самого этого слова, стоит сопоставить два отзыва о Герцене.
"Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства
объект, поставить его перед собой, поклоняться ему и сейчас же, пожалуй, и
насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени", - записал в своем
дневнике Достоевский.
Но вот что писал об этом же свойстве Ленин:
"У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий "надклассового"
буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой
борьбе пролетариата". (В. И. Ленин. Сочинения, т. 21, стр. 257.)
Конечно, ни буржуазный демократизм, ни классовая борьба пролетариата не
имели отношения к "Гамлету", но сопоставление оценок позволяет увидеть,
насколько и рефлексия, и преобладание мысли над действием, и скептицизм
понятия относительные, в каждом отдельном случае выражающие несходные
явления, вызывающие различную общественную оценку.
Существенно и то, что скептицизм иногда являлся вовсе не идейной
позицией, но лишь формой перехода.
Так раскрывал характер датского принца Белинский.
В статье о Мочалове есть и цитата из "Вильгельма Мейстера", и в
отдельных местах согласие с толкованием немецкого мыслителя. Но общий смысл
отличен от гетевского.
"От природы Гамлет человек сильный, - писал Белинский, - его желчная
ирония, его мгновенные вспышки, его страстные выходки в разговоре с матерью,
гордое презрение и нескрываемая ненависть к дяде - все это свидетельствует
об энергии и великости души".
Это не только не повторение мыслей Гете, но их опровержение; Гамлет -
человек сильный, и характер его не определен от рождения. Этап, показанный в
пьесе, лишь переход от "младенческой бессознательной гармонии через
дисгармонию к будущей мужественной гармонии".
Не только основные положения, но и сам тон статьи несовместим с
представлением о Гамлете - драгоценном сосуде, пригодном лишь для нежных
цветов.
Спор начался уже давно.
Ксенофонт Полевой, вспоминая о встрече с Пушкиным, записал и некоторые
его мысли, относящиеся к автору "Гамлета": "Немцы видят в Шекспире черт
знает что, тогда как он просто, без всяких умствований говорил, что было у
него на душе, не стесняясь никакой теорией. - Тут он (Пушкин.-Г. К.)
выразительно напомнил о неблагопристойностях, встречаемых у Шекспира, и
прибавил, что это был гениальный мужичок!"
Вспомнив пушкинские слова о. "вольной и широкой" кисти и о том, что
Шекспир не стеснял свою поэзию изображением лишь единичной страсти,
становится ясным, что имел в виду Пушкин, говоря о сочинении, "не стесняясь
никакой теорией". Под теорией в этом случае понималась замена жизненной
сложности предвзятостью отвлеченной идеи.
И выразительные воспоминания о непристойных выражениях, и даже сам
характер похвалы: "гениальный мужичок" - не просто шутка, но и спор с
романтическими представлениями о творчестве Шекспира.
Много лет спустя, в шестидесятые годы, Аполлон Григорьев употребил
похожий эпитет, говоря о русском исполнителе роли Гамлета: "Неловкий мужик
Мочалов". Прозвище появилось в одной из рецензий Аполлона Григорьева.
"Одним каким-нибудь словом Гюго херит обтрепанного, засиженного "героя
безволия" Гамлета, сочиненного немцами, и восстанавливает полный мрачной
поэзии английско-сплинистический образ..." ( Ап. Григорьев. Сочинения, т. 1.
Спб., 1876, стр. 634.)
Энергия этих выражений вызвана, вероятно, не только удовлетворением
книгой Гюго, но и нелюбовью к немецкому гамлетизму. Чувство это было
естественным для зрителя Мочалова и читателя Белинского.
В другой статье Аполлон Григорьев вспоминает: "Как раз играли у нас
Шекспира по комментариям и Гамлета по гетевскому представлению... Память
нарисовала передо мной все это безобразие - и Гамлета, сентиментального до
слабоумия, детского до приторности, верного до мелочности всему тому, что у
Шекспира есть ветошь и тряпки..." ( Ап. Григорьев. Воспоминания. М., Изд-во
АН СССР, 1930, стр. 250. 148)
Конечно, понятие о "ветоши и тряпках" у Шекспира относительное, и
беспристрастность Аполлона Григорьева может быть взята под сомнение.
Вероятно, Мочалов - Гамлет придавал особое значение именно тому, что иным
знатокам, в свою очередь, могло бы показаться "ветошью и тряпками".
Мочаловский образ, рассказывается в этой статье, "радикально расходился
- хоть бы, например, с гетевским представлением о Гамлете. Уныло-зловещее,
что есть в Гамлете, явно пересиливало все другие стороны характера..."
Что же повлияло на сгущение такой краски, отчего именно уныло-зловещее
стало основным?
С особыми характерами и судьбами связано начало русского гамлетизма. В
России Николая I гении не становились тайными советниками, непокорность не
соединялась с довольством, величие - с мелочностью.
Премьера "Гамлета" в Петровском театре в Москве состоялась 22 января
1837 года, но этот спектакль готовился уже давно. Его подготавливал не
только гений актера, но и само время. Оно ждало своего выражения в
искусстве; шекспировская трагедия оказалась пригодной для этого.
Не следует считать все, писавшееся о Мочалове, относящимся лишь к нему.
Он был - Гамлет, а в этот образ заглядывали, как в зеркало. Игра Мочалова,
по описаниям очевидцев, может показаться преувеличенно театральной, слишком
приподнятой, чтобы быть жизненной. Это неверно. Если сопоставить эти
описания с возвышенными словами дневников эпохи, с перепиской того времени,
когда посылали друг другу письма-исповеди длиной в несколько печатных
листов, полные драматических фраз, то мочаловские "громы в голосе",
"рыдания", "волосы, вставшие дыбом", и т. п. не покажутся относящимися лишь
к сценическому пространству.
Тогда единомышленники при встрече бросались в объятия, плакали на груди
друга, стоя на коленях произносили клятвы, бледнели от негодования и теряли
сознание от гнева.
Во всем этом не было позы. Слезы не были легкими. Клятвы сдерживались.
За подъем чувств расплачивались чахоткой. Стены тюрьмы совсем не напоминали
декорацию.
"Гамлет" был известен в России в восемнадцатом веке, но веяние той
эпохи не могло быть выражено в этой пьесе: еще не ощущалась с такой силой
"измена великому в пользу ничтожного". Но когда народ, победивший Наполеона
и освободивший Европу, вновь оказался в рабстве, измена стала невыносимой.
Пять виселиц на кронверке Петропавловской крепости закончили пору
вольнолюбивых надежд. Пришло время скорбного молчания, гневных раздумий. И
тогда возник интерес к характеру, выражавшему сомнения и раздумья, "сознание
каких-то черных дел... каких-то измен великому ь пользу ничтожного и
пошлого..."
Наступили тридцатые годы девятнадцатого века.
В 1834 году журналист Полевой написал неблагоприятную рецензию на
спектакль Александрийского театра. Пьеса, не одобренная критиком,
понравилась императору. Это приравняли к бунту. Вольнодумство было подавлено
мощью государства. Закрыли журнал: "Московский телеграф" давно был замечен в
неуважении к авторитетам. Из Москвы в Петербург на фельдъегерской тройке
привезли не угодившего власти писателя. Шеф корпуса жандармов вел допрос. В
этот день погиб талантливый журналист; начал жалкое существование запуганный
угодливый литературный чиновник - колесико государственного механизма.
Отчаяние, отвращение и боязнь уже не покидали Полевого до смерти. Сказки о
продаже души. черту кажутся веселыми рядом с историей этого человека.
В те годы Полевой начал переводить шекспировскую трагедию. Он подошел к
"Гамлету", как к зеркалу, и посмотрел в него. Какое же лицо отразилось в
стекле?
"Бледный человек, с физиономией сумрачной, - описал Полевого в своем
дневнике Никитенко, - но энергической. В наружности его есть что-то
фантастическое... в речах его ум и какая-то судорожная сила".
В переводе отразились и сумрачное бледное лицо, и какая-то судорожная
сила. Перевод стал переработкой. Изменилось не только стихосложение, но и
сам тон.
Одна из фраз стала знаменитой:
Страшно,
За человека страшно мне!
Крик этот привел Белинского в восторг. Он написал, что хотя слова эти и
не были сочинены Шекспиром, но они истинно шекспировские, и, вероятно, сам
автор не отказался бы от них, если бы их услышал.
Тем не менее принц Датский не говорил их и сказать в свое время не смог
бы. Их произнес русский гамлетизм тридцатых годов девятнадцатого века.
Судя по описаниям, основным в игре Мочалова была сила отрицания и
глубина грусти. Бешенство сарказма сменялось раздирающей душу тоской.
Мочалов - Гамлет издевался, проклинал, презирал и мучился.
Белинский писал, что на первых спектаклях соотношение чувств еще не
было найдено: "Актер самовольно от поэта придал Гамлету гораздо более силы и
энергии, нежели сколько может быть у человека, находящегося в борьбе с самим
собою и подавленного тяжестью невыносимого для него бедствия, и дал ему
грусти и меланхолии гораздо менее, нежели сколько должен ее иметь
шекспировский "Гамлет".
Но, наконец, на девятом представлении "чувство грусти, вследствие
сознания своей слабости, не заглушало в нем, ни желчного негодования, ни
болезненного ожесточения, но преобладало над всем этим".
Грусть являлась для Белинского чувством, обладавшим особым значением.
Он писал о грусти - основе народной песни, о печали стихов Лермонтова, о
"незримых слезах" Гоголя. Это чувство господствовало, по мнению Белинского,
в лучших произведениях современной русской литературы. Преобладание его
отражало судьбу великого народа, душевные силы которого были скованы и могли
найти исход только в грусти. Но это была особая грусть: под ней таились
"орлиный размах" и "с небом гордая вражда".
У Мочалова масштаб этой грусти превращался, в описании Белинского, в
космический, даже когда речь шла только о жестах. Для уточнения впечатлений
критик прибегал к таким сравнениям: "...сделавши обеими руками такое
движение, как будто бы без всякого напряжения, единою силою воли, сталкивал
с себя тяжесть, равную целому земному шару..."; "...махнувши от себя обеими
руками, как бы отталкивая от своей груди это человечество, которое прежде он
так крепко прижимал к ней..."
Грусть русского Гамлета тридцатых годов была полна мрачной поэзии и
гневной мощи.
Таким видел его не только Мочалов и не только Белинский. Множество
написанного в честь Мочалова относилось не к его игре, а к общему
представлению поколения о Гамлете.
В 1831 году Лермонтов - еще юноша, - описывая М. А. Шан-Гирей сцену с
флейтой, заключил письмо гамлетовскими словами: "...хотите из меня, существа
одаренного сильной волей, исторгнуть тайные мысли..."
В трагедии этих слов нет. Лермонтов приписал Гамлету не просто "волю",
а даже "сильную волю". Конечно, это обмолвка, но она не случайна.
Представление было настолько отчетливым, что слышались и слова, которые
герой не говорил, но которые ему следовало бы сказать.
Письмо написано за шесть лет до мочаловской премьеры.
Ощущение энергии и силы героя возникало вне зависимости от театрального
исполнения. Оно было таким же, когда играл актер другого толка, по общему
мнению, холодный и ходульный. И все же он был - Гамлет. Увидев Каратыгина,
Герцен под влиянием спектакля писал: "Я сейчас возвратился с "Гамлета", и,
поверишь ли, не токмо слезы лились из глаз моих, но я рыдал... Я воротился
домой весь взволнованный... Теперь вижу темную ночь, и бледный Гамлет
показывает на конце шпаги череп и говорит: "Тут были губы, а теперь
ха-ха-ха!" Ты сделаешься больна после этой пьесы".
Там же - Гамлет "страшный и великий" (Письмо к Н. А. Герцен, 18-19
декабря 1839 года.)
В образе датского принца теперь основным казался смех. Смех, в котором
ненависть сливалась с отчаянием. Однако и на это впечатление вовсе не
повлияла актерская игра.
За два года до каратыгинского представления Герцен уже слышал этот
смех: "...я десять раз читал "Гамлета", всякое слово его обливает холодом и
ужасом... И что же с ним сделалось после первого отчаяния? Он начал
хохотать, и этот хохот адский, ужасный продолжается во всю пьесу. Горе
человеку, смеющемуся в минуту грусти..." (Письмо к Н. А. Захарьиной, 13
апреля 1837 года.)
Мысль о человеке, способном смеяться в минуты горя, открывала новые
черты образа. Смех раздался в тишине. И это было особенно существенно.
Тишина бывает различной. Тишина тридцатых годов была предписанной. Безмолвие
означало благонадежность.
На безропотности делали карьеру. Страшна была немая память, беззвучное
горе, гнев - с кляпом во рту. Разум заменялся инструкцией, совесть -
обрядом. Думать не полагалось: нужно было знать службу. Тишину охраняли
жандармы и сторожили шпики; душили - если не петлей, то травлей, если не
нуждой, то отчаянием. Государство-тюрьма одурманивало ладаном Гоголя,
забивало пулю в ствол пистолета Мартынова, приказывало освидетельствовать
Чаадаева на предмет признания его сумасшедшим.
И вот в пору насильственной немоты зазвучал во всю свою мощь - от
громовых раскатов до свистящего шепота - мятежный человеческий голос. В нем
не было ничего от военной команды, бравых криков восторга, сладкозвучия
казенных соловьев. Голос удивительной красоты говорил: нельзя равнять
человека с флейтой, и можно, будучи бессильным, с потрясающей силой хохотать
надо всем, что сильно.
Хохотать от горя и ненависти.
Вот в чем заключалась такая необычайная степень воздействия этого
произведения в ту пору. Оно было нарушением молчания. Все в нем было
мятежным: и содержание, и стиль.
Кляп выпал.
Невысокий человек на сцене Петровского театра вырастал до огромного
роста. Белинский писал, что исполинская его тень подымалась до самого
потолка театрального зала. Этот человек показал, что можно вырваться из
строя, нарушить команду, порвать душащий грудь мундир, отказаться молчать.
Увлечение Шекспиром носило различный характер и совсем не было
всеобщим.
Булгарин писал: "Теперь только и речей, что о Шекспире, а я той веры,
что Шекспиру подражать не можно и не должно. Шекспир должен быть для нашего
века не образцом, а только историческим памятником". ("Театральные
воспоминания Фаддея Булгарина". "Пантеон русского и всех европейских
театров", ч. 1. Спб., 1840, стр. 91.)
Подражать Шекспиру призывал Пушкин. "Борис Годунов" был задуман "по
системе отца нашего Шекспира". Пушкин считал свою трагедию "истинно
романтической". Однако и романтизм понимался по-разному. В "Партизанке
классицизма" Шевырев восхвалял Шекспира по-своему, в этом случае была
существенна лишь романтическая бутафория кинжалов, змей, "мрака готического
храма" и т. д.
И кровью пламенной облитый
Шекспира грозного кинжал
В цветах змеею ядовитой
Перед тобою не сверкал.
В этой стилистике образы не отражали жизненных явлений. Их
ассоциативная сила была уничтожена. Кинжалы оказывались тупыми, ужасы -
безопасными; романтическая декламация не могла закончиться ни кровью из
горла, ни казематом.
В крепостной России Шекспир - "исторический памятник", "романтик"
являлся лишь предлогом для салонной болтовни; "мужицкий" Шекспир вновь
становился современным автором, восставшим не только против Дании-тюрьмы, но
и против всех государств, схожих с острогом.
Прошло пять лет после мочаловской премьеры.
Перевод Полевого, восхищавший раньше Белинского ("При другом переводе
ни драма, ни Мочалов не могли бы иметь такого успеха"), теперь показался ему
"решительной мелодрамой", "слабым подобием шекспировского создания",
"придвинутым к близорукому пониманию толпы".
Причиной нового отношения была не только измена Полевого. Иной стала
жизнь. Кончилось время кружковых споров; начался новый этап общественного
развития - эпоха разночинцев, журналов, открытых чтений; общественные силы
находили себе иное применение.
Теперь Белинский часто негодовал в письмах: "гнилая рефлексия",
"глупая, бессильная рефлексия", "пустая рефлексия".
"...Время Онегиных и Печориных прошло, - писал в пятидесятые годы
Герцен, - теперь в России нет лишних людей, теперь, напротив, к этим
огромным запашкам рук не хватает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не
на кого, тот в самом деле пустой человек, свищ или лентяй. И оттого очень
естественно, что Онегин и Печорин делаются Обломовыми".
Процесс этим не закончился. Обломовы пробовали выдать себя за Гамлета.
Явление было не только русским. Конечно, стихи Фрейлиграта - памфлет,
но имя Гамлета все же стояло в заголовке, и, очевидно, современники находили
какое-то сходство между героем стихотворения и трагедии.
Вот во что превратился датский принц:
Он слишком много книг прочел,
Покой он любит и кровать,
И на подъем уже тяжел -
Одышкой начал он страдать.
Мир действий, воли он отверг,
Лишь философствует лениво,
Погряз в свой старый Виттенберг
И любит слушать с кружкой пива.
Из обилия подробностей, заключенных в образе, сохранилась только одна:
одышка. У Фрейлиграта это единственная шекспировская деталь. В Гамлете,
любящем валяться на кровати и разглагольствовать в пивных, трудно узнать
героя трагедии. В зеркале - портрет немецкой либеральной буржуазии кануна
революции 1848 года.
В России пятидесятых годов вместо пива подавался на стол другой
напиток.
"...Вот уж и вечер, вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук
- оденешься и поплетешься к приятелю и давай трубочку курить, пить жидкий
чай стаканами да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и
прочих отдаленных предметах".
Это - "Гамлет Щигровского уезда".
Золотой кубок пенящегося вина - отравленная чаша трагедии - сменился
кружкой пива, стаканом жидкого чая. Напиток был невкусным и безопасным для
здоровья. Характер героя не только утратил исключительность, но стал
дюжинным.
"Таких Гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не
сталкивались", - говорится в тургеневском рассказе.
"Он, видите ли, представляет себя чем-то вроде Гамлета, человека
сильного только в бесплодной рефлексии, но слабого на деле, по причине
отсутствия воли, - пишет Н. Г. Чернышевский о Буеракине из "Губернских
очерков" Щедрина. - Это уже не первый Гамлет является в нашей литературе, -
один из них даже так и назвал себя по имени "Гамлетом Щигровского уезда", а
наш Буеракин, по всему видно, хочет быть Гамлетом Крутогорской губернии".
Видно, немало у нас Гамлетов в обществе, когда они так часто являются в
литературе..."
Некогда в гамлетовский плащ кутались мятежники; теперь появились
губернские и уездные датские принцы.
Сходство между Гамлетом и гамлетизмом становилось все меньше. Имя
нарицательное отделилось от собственного, приобрело самостоятельное
развитие. Их соединяли лишь ниточки внешних деталей.
Гамлету противопоставляли теперь не Клавдия или какое-либо другое лицо
пьесы, а героя иного произведения. Но с этим другим действующим лицом
происходила подобная же история. Говоря о Гамлете и Дон Кихоте, Тургенев на
самом деле говорил о гамлетизме и донкихотстве в формах, приданных этим
понятиям современной действительностью.
Несходство "Гамлета" с гамлетизмом становилось очевидным.
В восьмидесятые годы, работая над "Ивановым", А. П. Чехов писал о своем
замысле: "Я лелеял дерзкую мечту суммировать все то, что доселе писалось о
ноющих и тоскующих людях..."
Гамлет не представлялся Чехову ни ноющим, ни хныкающим. Во время
сочинения "Иванова" писатель нередко вспоминал имя датского принца - оно
встречается в переписке тех месяцев и в самой пьесе.
Иванов говорил: "Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый сильный
человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди...
сам черт их разберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют
Гамлетами или лишними, но для меня это - позор!"
Позор - не сходство с Гамлетом, но игра в гамлетизм.
Эльсинорская трагедия не могла повториться в помещичьей России
восьмидесятых годов.
"Пора взяться за ум, - говорил Саше Иванов, - поиграл я Гамлета, а ты
возвышенную девицу - и будет с нас". Гамлетизм - теперь игра, прикидка,
поза. Иванов - умный, благородный человек, и позерство ему отвратительно, но
множество людей, находящихся в аналогичном положении, не прочь ходить "не то
Гамлетами, не то Манфредами, не то лишними людьми".
Пошляки стали играть в исключительность. Потомки Грушницкого выдавали
себя за Печориных.
К концу века порода ноющих еще больше увеличилась. Гамлетизм становился
понятием пародийным.
В девяностые годы Н. Михайловский написал "Гамлетизированные поросята".
В статье рассказывалось о действительных Гамлетах и о "воображающих себя
таковыми". Михайловский издевался над людьми, считающими. что все дело в
Гамлете - "перо на шляпе, бархатная одежда и красивая меланхолия". Под конец
гнев критика распространился и на самого героя: "Гамлет - бездельник и
тряпка, и с этой стороны в нем могут себя узнать бездельники и тряпки".
Злоба на гамлетизм обратилась на его источник.
Предметом пародии стал и трагический стиль исполнения. Островский вывел
в "Талантах и поклонниках" запойного трагика Ераста Громилова, рычащего
знаменитые гамлетовские фразы. Слово "трагик" сопоставлялось уже не с
душевной мощью актера, а с нелепым переигрышем. И дело было не только в том,
что Громилов спился и утратил талант. Люди нового поколения не могли бы
повторить клятвы Герцена и Огарева на Воробьевых горах. В "Былом и думах",
вспоминая юность, Герцен писал: от пошлости и быта спасало то, что "диапазон
был слишком поднят", "гражданская экзальтация спасала нас". Теперь
гражданственность уже не могла быть экзальтированной, а экзальтация не имела
ничего общего с гражданственностью. Кончилась эпоха высоких слов. Базаров
ворчал: "Не говори красиво". Это было эстетической программой.
Некогда шепот Мочалова потрясал Белинского; теперь Чехов писал в
рецензии: "Иванов-Козельский шипит, как глупый деревенский гусак". Различие
между этими актерами заключалось не только в мере таланта, но и в связи их
Гамлетов с действительностью. Свистящий шепот и "громы в голосе" уже не
могли выражать жизненных явлений.
Перо на шляпе, бархатная одежда и красивая меланхолия, о которых так
много писали критики второй половины девятнадцатого века, не имели ничего
общего с шекспировскими описаниями. По словам Офелии, камзол Гамлета был
порван, чулки спущены до щиколоток и в пятнах, выражение лица дико. Эстетизм
облика принца был изделием французского гамлетизма.
Даже Артур Рембо, находивший поэтичность в поисках вшей, когда дело
касалось Гамлета, именовал его "бледным кавалером". Таким он появлялся на
сцене. Критики воспевали берет со страусовыми перьями, бархат наряда и даже
шелковый платок, которым принц обворачивал руку, перед тем как поднять с
земли череп. Изящество и картинность поз стали традицией.
Гамлета начали играть женщины.
Между 1834 и 1843 годами Эжен Делакруа выпустил серию иллюстраций к
трагедии. Принц в изображении художника был юным, изнеженным, прекрасным в
своей задумчивости. Что-то нежизненное запечатлелось на его бледном лице;
страсть не искажала его ни в сцене с матерью, ни во время "мышеловки". Он
казался загипнотизированным или лунатиком, застигнутым в момент припадка.
Шекспировский герой шутил с мужиком, рывшим могилу; Гамлет, изображенный
Делакруа, проходил молча, не взглянув на могильщика. Судьба Йорика
интересовала лишь Горацио, - на литографии череп шута рассматривал не
Гамлет, а его университетский друг. В последних картинах (пятидесятые годы)
жесты героя стали изломанными и манерными.
Это был уже не шекспировский образ, но как бы концентрация ощущений,
вызванных трагедией, вернее, одной ее стороной - меланхолией героя.
Воздействие этих иллюстраций было настолько сильным, что романтические
критики сравнивали театральное исполнение уже не с текстом пьесы, но с
изображением Делакруа. Готье и Бодлер писали больше о соответствии актера
Рувьера - Гамлета представлению Делакруа, нежели Шекспира. По вымаркам можно
понять замысел роли. Говоря условно, Делакруа купюровал в роли Гамлета
страсть, сарказм, грубость, даже ум. Осталось только одно свойство. Им было
отмечено поколение.
"Это было какое-то отрицание всего небесного и всего земного,
отрицание, которое можно назвать разочарованием или, если угодно,
безнадежностью, - писал Мюссе в "Исповеди сына века". - Человечество как бы
впало в летаргический сон, и те, которые щупали его пульс, принимали его за
мертвого... ужасная безнадежность быстро шагала по земле... сердца слишком
слабые, чтобы бороться и страдать, увядали, как сломанные цветы".
Это была не только гибель старых иллюзий, но и утверждение
невозможности надежд.
Наступил декаданс.
"Гамлет около 1890 года был привычной фигурой настолько, что он как бы
жил интенсивной жизнью вместе с художниками и их публикой. Действующие лица
символических романов этого времени всегда имели что-то от его меланхолии...
Их размышления были гамлетовскими, и поэты произносили монологи на
кладбищах, так же, как он делал во время Ренессанса. В очень длинных романах
и в очень коротких лирических стихотворениях современный человек выражал
свое понимание мира и свою неспособность его изменения.... Для современного
человека не было смысла в действии, пока он не вышел из состояния
безнадежности..." (Rene Taupin. The Myth of Hamlet in France in Mallarme's
Generation. Modern Language Quarterly, vol.Fourteen, University of
Washington Press, 1953.)
Огромные исторические события потрясали мир: человечество запомнило
предательство революции 1848 года. позор седанского разгрома, штурм неба
коммунарами.
Опять тяжело гудели похоронные колокола, и долго не высыхала кровь на
стене кладбища Пер-Лашез.
Измена великому в пользу ничтожного осуществилась в еще небывалых
масштабах. Людям, враждебным народной борьбе или не понимавшим ее смысла и
ужасавшимся ее формам, все казалось погибшим, дошедшим до хаоса, из которого
нет выхода.
Человек, остановившийся на краю могилы, смотрящий в пустые провалы
глазниц черепа, заслонил содержание трагедии. "Гамлет" - поэма смерти, писал
Теофиль Готье, драма существования в реальном мире.
Густав Сальвини (сын Томазо) являлся, по словам Луначарского,
"монументальным плакальщиком по судьбам человеческим. Кажется, что
исполинская черная тень согнувшегося и заплаканного над черепом Йорика
датского принца топит всю залу и меланхолическим конусом отбрасывается в
пространство миров. Слова, как удары погребального колокола, как музыка
отпевания всех надежд..."(А. Луначарский. Театр и революция. М., 1924, стр.
462.)
Гамлетизм вошел в моду. Мистическая утонченность переходила в
бульварную пошлость. На Монмартре в кабаках для туристов пьянствовали, сидя
на гробах, бросали окурки в черепа; в жаргоне богемных кварталов появились
новые словообразования - "гамлетомания", "гамлетоманиак", "гамлетизировать".
Один из исследователей перечислил несколько десятков подобных словечек.
Слово "кризис" прилипло к трагедии. Во множестве сочинений
утверждалось: "Гамлет" - кризис разума, веры, знания, надежды. Какой-то
универсальный кризис.
Маленьким, еле произносимым стало слово "быть!", огромным,
утверждающим-"не быть!" Пьеса стала символом гибели европейской культуры.
Все стало иероглифами: книга - тщетность знания, череп Йорика - итог надежд,
тень отца - бездна, куда падает человечество.
Ассоциации достигли такой сложности, что текст Шекспира никак не мог
быть их источником. Это не смущало. Слова воспринимались как шифр,
скрывающий смысл, имеющий мало общего с непосредственно вычитываемым.
Началась пора отыскивания тайного значения каждой фразы. Все показалось
смутным и зыбким; обыденных, постигаемых разумом положений уже не
существовало. Выяснилось, что Шекспир сочинял не образы, но тайнопись.
Гамлетизм стал гиперболой. Поэты, философы, ученые, потрясенные силой
жизненных противоречий, не видевшие выхода из них, символизировали этим
образом всю европейскую культуру и при его помощи оплакивали ее гибель.
"Сегодня с необъятной платформы Эльсинора, простирающейся от Базеля к
Кельну, достигающей песков Ньюпорта, болот Соммы, верхушек холмов Шампани и
гранита Эльзаса, европейский Гамлет созерцает миллионы призраков", - писал
после первой мировой войны Поль Валери.
Психоанализ добавил к гамлетизму "Эдипов комплекс", у героя обнаружили
действительное психическое заболевание: потрясение, вызванное известием о
кровосмесительной любви матери и дяди. Больным оказался не век, согласно
шекспировскому замыслу, а одинокая человеческая душа, искалеченная
патологией подсознания. И недуг этот был вызван не столько гнусностью
царства Клавдия, сколько темными процессами вытесненных желаний, угнетающих
человека со времен его детских снов.
В 1942 году балетная труппа театра Сэдлерс Уэллс поставила в Лондоне
"Гамлета" на музыку Чайковского. Действие начиналось с похорон, все
происходившее показывалось как бред, проносящийся в подсознании героя в
мгновение смерти. Деформированные обломки реальных образов были декорацией.
Огромную искривленную руку пронзал кинжал, выраставший из колонны. Во всю
заднюю стену был написан бегущий дьявол с мечом в руке. Странно удалялась в
бесконечность перспектива дверей, и клочья облаков неслись над уходящей в
неведомые миры лестницей. Сам принц, в черном трико с железной застежкой
(лапой, вонзившейся в сердце) и большим крестом на груди, с набеленным
изможденным лицом и широко раскрытыми глазами, казался призраком
сюрреалистического кошмара.
Не случайно такой призрак гамлетизма появился в Европе, когда чернели
развалины разбомбленных зданий и выли по ночам сирены воздушной тревоги.
Никогда возможность гибели европейской цивилизации не представлялась такой
реальной. Это был своего рода экстракт определенной традиции. Она была
настолько отчетливой, что одна из английских энциклопедий в статье,
посвященной "Гамлету", писала: "В результате литературной критики
романтического периода Гамлет может рассматриваться как прототип
современного человека, поглощенного самоанализом, первого представителя
психологического явления, которое, развиваясь, достигнет высшей точки в
декадентах XIX века". (The Reader's Encyclopedia, ed. William Rose Benet.
London, 1948, p.476.)
В монографии, посвященной Роберту Хелпмену (исполнителю заглавной роли
и постановщику этого балета), фотография актеров, исполняющих роли Гамлета,
Клавдия и Гертруды, была снабжена подписью "фрейдистский треугольник". Вот
что осталось от неисчислимого богатства шекспировской жизни. (Caryl Brahws.
Robert Helpmann. Choreographer. London, 1943.)
Имя нарицательное не только отделилось от собственного, но и стало
выражать явления, противоположные всему мышлению автора, создавшего этот
образ.
Такова была одна из линий развития гамлетизма. Конечно, речь идет
именно о гамлетизме. Современный английский шекспировский театр менее всего
определяется балетным спектаклем. Джон Гилгуд, Лоуренс Оливье, Поль Скофилд
(в прекрасной постановке Питера Брука), которого мы недавно видели во время
московских гастролей, раскрывали совсем иные свойства героя трагедии. Эти
свойства были различными. Время меняло замыслы; один и тот же актер изменял
с годами понимание образа. Критик, описывая четыре трактовки Гилгуда, писал
о спектакле 1934 года: "Это был портрет молодого идеалиста, горько
разочаровывающегося, теряющего свое мужество в речах, мучающегося своей
собственной фатальной нерешительностью". Через пять лет критик добавлял:
"Вспышки гнева и горького юмора были так же хороши, как прежняя
чувствительно